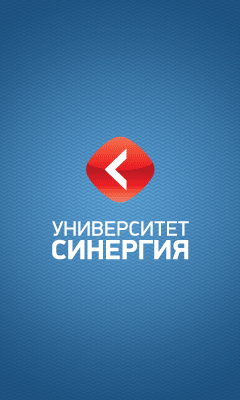|
РУБРИКИ |
Курсовая: Генезис и структура символического в структурной киноэстетике Эйзенштейна |
РЕКОМЕНДУЕМ |
||
|
Курсовая: Генезис и структура символического в структурной киноэстетике ЭйзенштейнаКурсовая: Генезис и структура символического в структурной киноэстетике ЭйзенштейнаГЕНЕЗИС И СТРУКТУРА СИМВОЛИЧЕСКОГО В СТРУКТУРНОЙ КИНОЭСТЕТИКЕ ЭЙЗЕНШТЕЙНА
I. Общий план. Драматургия. Пространство.Инициировавшее возникновение кинематографа событие является ключевым для всей постклассической Европы. Это событие связано, прежде всего, с кризисом идентичности классического субъекта, которого на протяжении истории классической метафизики отличала субстанциальность и неподверженность изменениям во времени. В начале XX-го века происходит фундаментальная трансформация новоевропейского теоретического субъекта, составляющие которой связаны в один узел в точке децентрации классического субъекта. Причем на авторство этой децентрации претендуют и феноменология, и структурализм, и психоанализ, и теоретическая физика. Однако для всех этих дисциплин субъект сдвинулся с «мертвой точки» своей абсолютности только теоретически, а возникший в это время кинематограф явил это смещение воочию, — децентрация теоретической субъективности обрела кинематографическую плоть. Кинематограф эстетически дублировал релятивистский кризис идентичности классической европейской субъективности, которая пошатнулась в сторону своего практического воплощения, чьим пространством становится уже вся история европейской культуры. Кинематограф представляет собой эмпирическое alter ego новоевропейского сознания, в котором оно находит своего визуального двойника, своего воплощенного дублера, благодаря чему его бытие восстанавливается, преодолевает расколотость, правда, только в символической форме, и кинематограф не забывает эту символичность зафиксировать и оттенить. Обратим внимание на структурное сходство между трансцендентальным устройством сознания и кинематографической схемой. Благодаря экрану сознание способно репрезентировать свою собственную схему, увидеть на киноэкране себя. Вся киноэстетика Сергея Эйзенштейна собственно и основана на сближении кинематографической схемы со схемой сознания, категориального аппарата с киноаппаратом, поскольку кинематограф — проекция новоевропейского сознания, эстетическая проекция его «трансцендентальной схемы», и его анализ предстает как «критика кинематографического разума». В этом смысле кинематографическое бытие можно разделить на два плана — рассудочный, внутренний и чувственный, внешний. 1. Поскольку камера описывает горизонт драматургической наррации, постольку она соответствует описываемой Кантом в разделе «Трансцендентальной эстетики» Критики «чувственности». Созерцаемая «чувственной» камерой оптическая реальность обладает линейной (прямой) и радиальной (обратной) перспективой, которые задают режимы тангенциального центробега и радиального центростремления взгляда, в соответствии с которыми выстраивается и движение камеры как движение «вдоль» и «поперек» — по поверхности сферы «пространства» и вглубь сферы «времени»[1]. 2. Функция монтажа — это функция рассудка, аналитически разрезающего и синтетически склеивающего, индуцирующего и дедуцирующего, сводящего от частного к общему и от общего к частного, поэтому принципы его функционирования можно подвести под принципы «трансцендентальной кинологики». И как рассудок без чувственности — слеп, а чувственность глуха без рассудка, так же слеп монтаж без целостной кинодраматургии, а последняя в свою очередь глуха без монтажа. И если дело чувственной камеры — полагать, суммировать, умножать, то дело рассудочного монтажа — отрицать, вычитать, сокращать. 3. Единство драматургии и монтажа описывается в рамках «трансцендентальной кинодиалектики». Трансцендентальная киноэстетика описывает возможность конституирования двух планов киночувственности — киновремени и кинопространства. Временной план формируется радиальным движением камеры. Пространство в кинематографе схватывается линейным движением камеры. Линейная чувственность кинопространства открывается прямой перспективой кинетического развертывания линейной серии вещей, заключаемой в горизонтальное единство, обладающего интеграционной непрерывностью. Линейное движение камеры осуществляется как «общий план». Радиальная чувственность киновремени углубляется обратной перспективой свертывания генетического ряда становления единичной вещи, непрерывность которого заключается в вертикальное единство ее идентичности. Радиальное движение осуществляется как «крупный план». Оптическая единичность вещи схватывается диа-метром круга, в который вписывается вещь, то есть, он является раз-мером или единицей оптического измерения вещи. Напротив, оптическое единство вещей схватывается радиусом горизонтальной окружности, линия которого это единство описывает, заключая его в «поле зрения». Именно в геометрических параметрах диаметральной единичности вещи и радиального единства вещей описывается оптическая диалектика отношения идентификации и интеграции вещи. Функционирование оптической структуры определяется взаимодействием абсолютного радиуса луча зрения, устремленного в бесконечность, и относительной мерой единицы оптического разрешения, стремящейся к нулю. Диаметр точки зрения и длина радиуса зрения (radius, и есть собственно «луч») находятся в системном отношении. Диаметральность и радиальность являются основными характеристиками оптического уравнения реальности, которые соотносятся друг с другом по правилу «золотого сечения». Диаметр обладает смещенным, асимметричным равенством, то есть диаметр внутри себя не уравновешен. Асимметричность эта придает диаметру оптической единицы динамический характер, — в поисках нулевого равновесия противоположные края оптической единицы непрерывно колеблются, сжимаясь с двух сторон к символической точке воображаемого нуля. Напротив, радиус зрения односторонне длится к периферии поля зрения, непрерывно его расширяя. Константным для этой системы остается сам характер непрерывного изменения, да, пожалуй, нулевая инстанция. В остальном, она непрерывно трансформируется: «Соединяя в динамическую взаимосвязь отрезки, каждый из которых меньше на величину переменную в абсолютном исчислении и постоянную в пропорциональном относительном исчислении, «золотое сечение» как бы аккумулирует в себе импульс неостановимых колебаний и создает иллюзию движения» [2]. Сказанное о структурном порядке видеоряда Андрея Тарковского в полной мере относится к структуре киносимволизации, и всего кинематографа в целом. «Переменность в абсолютном» и «постоянство в относительном» — две сущностные характеристики оптической структуры как относительного центра тождества, сжимающегося к нулю, и абсолютной периферии различия, расширяющейся в бесконечность. Оптическая система складывается из центральности структурной единицы оптики («зерна») и луча — радиуса, определяющего поле зрения. Таким образом, отношение переменности абсолютного интеграционного радиуса и постоянства асимметрии сторон относительного идентификационного диаметра создает не только иллюзию кинематографического движения, но и иллюзию движения сознания вообще. Итак, с одной стороны луч камеры у-точняется к единичному объекту в стремлении к его истине, к его понятию в гегелевском смысле, а значит, он уточняется к центру той окружности, которая интегрирует все предметы, с другой стороны луч камеры удлиняет свой радиус, стремясь охватить всю округу предметного горизонта. Очевидно, что точка, к которой стремится луч «естественного света» камеры, это точечное зерно ее собственной «разрешающей способности», буквально разрешающей вещи присутствовать в меру ее выявленности, выведенности на свет. И точка эта приходится строго на центр конституируемого этим лучом горизонта. Но то, что зрению мешает увидеть вещь в ее полноте — это сама точка зрения, — зрению заслоняет вещь сама точка зрения. Радиус луча зрения как бы экстраполирует, «выносит вовне» (Гегель) внутренний диаметр на периферию, наполняя его конкретным чувственным содержанием таким образом, что в центре чувственной округи, образованной движением диаметра, находится идеальный диаметр, который непрерывно уточняется. Идет взаимодополнительное уточнение диаметров двух кругов — внутреннего и внешнего — как двух половин единой спирали, причем центр двух кругов принципиально идентичен. Вертикальная генетика единичного диаметра образует ось символической темпорализации, которая перпендикулярно выставляется в центр округи символической спациализации, чье движение создается горизонтальной кинетикой всеобщего радиуса. Кинематографическая оптика производит пространственную интерпретацию темпоральности, причем существенно в форме драматургии. Кинематографически время выражается в форме центрального символа, чья интенсивность коррелятивна экстенсивности конституируемого им горизонта. Драматургический нарратив формирует топический параметр темпоральности, помещая его символ по правилу оптической логики в самый центр горизонта повествования. Оптика драматургии феноменологически редуцируется Эйзенштейном к устройству и истории глаза, исходя из которых снова, но уже ретроспективно, описывается все тот же трехэтапный генезис драматургической формы: «Мне это напоминает эволюцию глаза – от одноточечного неподвижного глаза к неподвижному глазу насекомого, уже многофацетного, многоточечному, но в себе еще статичному, и, наконец, к глазу снова одноточечному, но динамическому, подвижному, способному двигаться, обегать и пронизывать взглядом окружающее» [3]. Генезис этой оптической схемы Эйзенштейн экстраполирует на генезис всей драматургическо — композиционной структуры, предстающей как история театра: «В самом же принципе мы имеем интереснейшую стадиальную вариацию единства места как пространственного выражения основного — единства действия. Сперва, в глубокой древности — в античном театре — единство места совпадало с фактической прикрепленностью действия к одному физическому месту происшествия. Затем — метафизическая прикрепленность определенных изображений мест игры к определенным частям помоста. Средневековый театр для всех спектаклей символически закреплял места действия ада и рая на этажах трехэтажной сцены или на правой и левой сторонах длинного помоста мистериальной сцены. За промежуточными местами закреплялись свои, бытово и географически локально очерченные места действия. (Море. Дом Тайной вечери. Голгофа. Дом рождения Марии. И т.д.) И, наконец, наш тип единства — связанность места сценического действия с содержанием, смыслом и эмоциональным ощущением действия сюжетного при любых видимых формах его внешнего местонахождения» [4]. Эйзенштейн описал генезис связи места как знака и символического действия как значения, входящих в структуру драматургической формы, как диахроническую экспликацию элементов синхронной структуры. Тем самым показав, что генезис структуры содержит в виде моментов элементы, идентичные элементам самой структуры. Будучи гегельянцем, Эйзенштейн создает своеобразную феноменологию кинематографической идеи, в которой центробежное смещение Предмета по драматургической горизонтали коррелируется с центростремительным сгущением Понятия по семантической вертикали, причем так, что Предмет выступает оптическим знаком семантического Понятия, которое есть для него значение, и связь знака и значения имеет системный характер. Кинетика киноряда подчинена динамической структуре баланса между понятием и предметом. Киноряд является оптической проекцией логического суждения «Предмет есть Понятие», — его движение проецирует непрерывное становление этого «есть», кинооптическим смыслом которого является свет как зрительная форма присутствия. То есть, онтологическая оппозиция присутствие/отсутствие кинематографически выражается в оптической оппозиции присутствие/отсутствие света, говоря иначе, как оппозиции света и тени. Логическим смыслом единицы или истины оптического измерения является нулевая кинооптема, которая расколота внутри себя на свет присутствия и видимости и тень отсутствия и невидимости. Дело в том, что присутствует то, что пребывает в свете кадра, однако сам свет кадра как бы отбрасывает тень за пределы своей рамки. Свет определяемого рамками кадра присутствия позиционирует тень находящегося за кадром отсутствия. Любой кадр говорит «есть» только о том, что внутри кадра. А то, что вовне — в данный момент просто отсутствует. Кадровое определение только этой вот реальности, полагание ее в кадре, в то же самое время производит отрицание всего того, что находится за кадром. То же самое происходит в логике. Когда мы полагаем: «Яблоко есть», то мы полагаем яблоко абсолютно, отрицая все остальное, поскольку в этом высказывании знака присутствия «яблоко» узурпирует, пусть на миг, всю реальность в слове «есть». Кинематограф с-казывает присутствие в кадровой форме светотени, ограничивая присутствие отсутствием, то есть определяет свет истины тенью мнимой границы. Таким образом, кинематограф в своей оптической ипостаси основан на светотеневой двойственности как ложной определенности света в его истинности. Говоря иначе, истина содержания определяется ложной, мнимой, искусственной границей формы, и только благодаря ей и существует. В оптическом смысле это предстает как
тем самым изображенное, благодаря определяющей его рамке, узурпирует всю оптическую реальность. Кадровая рамка присутствия селекционирует то, что выводится в свет кадра, и таким образом становится быть. Подобно тому, как время у Канта представляет собой «одну и ту же» форму «отношения и связи или, вернее перехода от реальности к отрицанию», чья интенсивность изменяется от 0 до ∞, также и пустая рамка кадра, являя собой чистую киноформу, которая осуществляется в пределах оппозиции «туманность»/«освещенность»[5], то есть в экстремумах «света» и «тени», где свет стремится к бесконечности (бытие), а тень стремится к 0 (ничто). Далее горизонтальная граница внутрикадровой рамки переходит в вертикаль межкадровой границы монтажной комбинации, чтобы затем свернуться в центральную точку пересечения внутрикадровой синхронности и межкадровой диахронии. Развертывание кинематографической идеи структурируется внутренней логикой оптической границы, которая сначала периферийной рамкой полагает внутрь кадра синхронность о-пределенного присутствия, вынося за рамки кадра, в отсутствие все остальное. Затем, это присутствие разделяется межкадровыми границами в монтажную серию. И, наконец, эта серия замыкается вокруг центральной точки, опосредующей единство драматургического горизонта и монтажной вертикали. Горизонт внутрикадровый рамки, вертикаль междкадровой границы, центральная точка их единства — феномены принципа двойственности, что одновременно соединяет и разделяет присутствие и отсутствие. Эта онтическая двойственность «есть/несть» далее распадается на два структурных полюса: центр и периферию, — центр притягивает и концентрирует то, что есть в большей степени, в то время как по периферии рассредоточивается то, что есть в меньшей степени. Основанные на онтической полярности полагание/отрицание центростремительная и центробежная тенденции оптически реализуются в укрупнении и обобщении плана соответственно. Центральная область сосредотачивается радиальным рядом крупных планов, а периферийная — рассредоточивается тангенциальным рядом общих планов. Таким образом, идея кинематографа из сферы формальной оптики переходит в область семантического монтажа. Кинематограф, надеясь преодолеть границы языка, определяет всю реальность в реальность оптическую. Кажется, что оптическая реальность шире, богаче, и ярче лингвистической. Однако, парадоксальным образом, та структура, которая центрирует язык, как семиотическую схему реальности, в той же степени присуща и оптической схеме кинематографической реальности. Более того, благодаря этой структуре, чего не достает языку с избытком присуще кинематографу, и, напротив, то, в чем испытывает недостаток кино, в избытке присутствует в языке. То есть, общая для кино и языка структура устроена по принципу, описанного Жилем Делезом в «Логике смысла», где означающее и означаемое образуют пару «места без пассажира» и «пассажира без места». Кинематограф испытывает нужду в видимом означающем для выражения невидимого, но слышимого означаемого. А языку и литературе недостает лингвистического означающего для выражения не проговариваемого, но видимого означаемого. Общая для кинематографа и языка структура несет конфликт, неравенство, изначальную нетождественность Оптического и Лингвистического. И как литература не может высказать Молчание в смысле своих слов, так кино не может показать Свет в свете своих образов.
II. Крупный план. Монтаж. Время.Кинематограф представляет собой оптико — динамическую проекцию лингвистических конструкций. Как кинодраматургия призвана представлять реальность природного и культурного мира в качестве объективной реальности, так монтаж как схема киносинтаксиса призван репрезентировать субъективную реальность в качестве совокупности принципов восприятия и мышления. Монтажная фраза без крови драматургическо — дейктического содержания слепа, а драматургия без монтажа — нема. Попробуем рассмотреть систему кинематографа как языковую систему, не забывая, однако, о том, что они имеют разное субстанциальное наполнение, в одном случае — лингвистическое, в другом — визуально — эстетическое. Структурная лингвистика выделяет три существенных уровня языка: 1) семантический — на котором происходит образование лингвистических значимостей (морфем, семантем, лексем), причем единицами дистинкции смыслов выступают семантически пустые единицы; 2) синтаксический — приведение семантем в связь, 3) практический — уровень образования адресных высказываний. В соответствии с этим уровнями в кинематографе можно выделить также три уровня: киносемантический, киносинтаксический, кинопрагматический. А) Семантический уровень: На киносемантическом уровне производится «представление» (Vorstellung), возникающее в результате монтажного наложения двух киносемантических «впечатлений» (Eindruck). Первичные киносемантемы образуются как иероглифы. Причем между двумя элементарными кадрами должна быть асимметрия, смещение, их равенство — приблизительно. Между ними необходимо должно быть напряжение, колебание. Структурная единица кинематографической системы как первичное «впечатление» (Eindruck) есть нулевая киносемантема, ее ничто не отличает от другой, кроме тени незаметной для глаза границы между кадрами. Принцип различия нулевых киносемантем тот же, что в языке, в котором смыслоразличительная функция принадлежит такой не обладающей значением единице как фонема, в кино ей соответствуе нулевая кинооптема. B) Синтактический уровень: Связь двух киносемантем производит киносинтаксему, соответствующей синтактическому уровню естественного языка. Подобно синтаксическим отношениям в языке, киносинтаксемы бывают двух видов: 1) центробежная киносинтаксема ходом прямой связи выражает «внутренний» план через план «внешний», тем самым диахронизируя периферию киноповествования. 2) центростремительная киносинтаксема ходом обратной связи привязывает фрагмент плана выражения (референции) с планом содержания (значения) в процессе синхронизации центральной функции киноповествования. Центробежная киносинтаксема образуется метонимическим или линейным смещением среднего плана к периферии так, что благодаря ей объективный план обобщается. Такое смещение является метрическим (и здесь кинопоэтика Сергея Эйзенштейна вполне адекватна поэтике традиционной), поэтому по способу этого смещения соответствующий монтаж носит название метрического. Она движется от органически общего, расположенного в центре, к механически частному, находящегося на периферии, и существенно направлена на референт как объективный знак, которому в логическом суждении соответствует предикат. Центростремительная киносинтаксема возникает метафорическим или радиальным сгущением к центру, благодаря чему субъективный план укрупняется. Центростремительная киносинтаксема сгущает средний план к центральному, — в поэтике эта операция называется ритмической, а кинопоэтика именует соответствующий монтаж ритмическим. Надо заметить, что ритмический монтаж наиболее полно соответствует метафорической функции монтажа, поэтому для Эйзенштейна он имеет доминирующее значение. C) Прагматический уровень: Кинопрагметема, будучи кинематографическим умозаключением, по всем правилам киносиллогоистики заключает в полный круг высказывания центробежную и центростремительную киносинтаксемы за счет упразднения среднего плана. При монтажном образовании кинопрагматемы средний план попросту упускается, то есть там, где должен был быть средний план, связывающий крайние планы, возникает граница монтажного стыка. Отождествлекние крайних планов — центрального и периферийного как крупного (субъективного) и общего (объективного) — происходит за счет упразднения среднего термина как среднего плана, на месте которого в логическом суждении возникает функция «есть». Центростремительная киносинтактема заключает периферийный знак к его значению. Создаваемый кинопрагматемой символ связывает воедино центральную область абстрактного значения и периферийную область референта как конкретного знака. Таким образом, кинопрагметема представляет собой полный круг умозаключения, состоящей из центробежной киносинтактемы (малая посылка) и из киносинтактемы центростремительной (большая посылка), и фиксируемой в символическом тождестве центрального символа и периферийного горизонта наррации. Монтажная схема — это трансцендентальная схема для кинематографа, обладающей аналогичной рассудочной сеткой категорий, устанавливающих определенный тип отношений, и если всякая киносемантема — многозначна, то киносинтаксис является вполне однозначным порядком, где одному характеру связи соответствует один определенный вид монтажа. Все двенадцать категорий можно свести к трем основным, конституирующим три способа темпоральной связи: 1) синхронный (сосуществование), 2) диахронический (последовательный), и 3) носящий характер «динамической синхронии» (субстанциальный). Каждому характеру временного отношения соответствует способ монтажа — диахронический план образуется горизонтальным монтажом драматургической наррации, синхронический — вертикальным сцеплением единичных символов, динамическо — синхронный как «субстанциальный» формируется монтажным совмещением центральной функции и драматургической поля. Устанавливающий символическое тождество срединный символ выступает инстанцией причины, являясь одновременно и связующим звеном и разделяющей границей. Монтажная причинность, обладая характером субъективной спонтанности, то есть, целиком отвечая функции кантовской «идеи свободы», которая выступает трансцендентной причиной в ряду эмпирических явлений, отличается от объективно детерминированной причинности драматургического ряда. Априорность монтажа находится в диалектическом сопряжении с апостериорностью драматургии. В то же время драматургическая созерцательность вещи соотносится с ее монтажной мыслимостью. Если драматургическо — внутрикадровая связь вещей имеет объективный характер, то монтажно — межкадровая связь обладает субъективным характером. В работе «Монтаж 38» Эйзенштейн разбирает один текст Леонардо да Винчи, в котором излагаются своеобразные пролегомены к изображению Всемирного Потопа. Эйзенштейна интересует здесь «монтажный» характер описания несуществующего произведения, благодаря которому он уточняет структуру и функцию монтажа. Прежде всего, постулируется циклический характер монтажа: «При этом ход этого движения никак не случаен. Движение это идет по определенному порядку и затем в аналогичном строгом порядке обратным порядком возвращается назад к тем же самым исходным явлениям. Начинаясь описанием небес, картинка замыкается таким же описанием»[6]. Иначе говоря, монтаж устанавливает характер отношения, связи между общим и частным, чему в языке соответствует функция глагола «есть». Монтаж призван соединять общие и частные кадры, не имея возможности использовать глагол «есть». «Есть» в киномонтаже заменяется простым сопоставлением двух отдельных кадров. В языке три лингвистических уровня соответствуют трем функциям глагола «быть», «существовать» как системообразующей функции языка — семантический уровень соответствует факту простого наличия, существования, выражаемого в простом «есть»; синтаксический — факту связи, отношения между двумя сущими, выражаемых в суждении типа «S e P» («яблоко есть фрукт»); практический отвечает такой функции глагола как тождество, равенство, устанавливаемого в умозаключении, призванного фиксировать эквивалентность диалогического обмена. Кинематограф компенсирует отсутствие трехфункциональности глагола монтажом, который также условно распределяется на три уровня: семантический, кинетический, интеллектуальный: 1) Семантические монтажи объединяет те их типы, которые будучи параллельными или синхронными горизонту наррации, создают киносемантемы, семантический монтаж создают комбинации из двух или более кадров; 2) Синтактические («кинетические») монтажи — метрический, ритмический, тональный, обертональный — связывают как минимум две киносемантемы в киносинтактемы – центробежную и центростремительную; 3) Интеллектуальный монтаж — это монтаж, связывающий в символическое единство монтажную форму и драматургическое содержание. Эта последовательность монтажей представляет диахронической развертывание умозаключения, — киносемантический, центробежный монтаж это большая посылка («Люди — смертны»), центростремительный монтаж — малая посылка («Сократ — человек»), интеллектуальный монтаж — полное умозаключение («Сократ смертен»). A = B, B = C, следовательно A = C Рассмотрим функции этих трех монтажей на примере: 1-я фраза (метрический монтаж): камера горизонтально описывает панораму города, дуга этого описания завершается крупным планом стадиона, на котором проходит освещаемый прожекторами футбольный матч, — из общего плана панорамы города выхватывается крупный план стадиона, — общий план метрически и метонимически сокращается до стадиона, частное исключается из общего, здесь стадион еще нарративный знак города; 2-я фраза (ритмический монтаж): этот ряд чередует конфликтные сцены из городской жизни — спор из-за места в очереди в магазине, потасовка подвыпивших мужчин возле питейного заведения, нападение хулиганов на задержавшегося допоздна в гостях человека (крики, ругань), погоня милицейского патруля за преступником (свистки, сирена), распоясавшийся молодчик, идя по проспекту, пинает урну с мусором, и сцены из футбольного матча — спор за мяч, потасовка из-за нарушения правил игры, защитники гонятся за форвардом команды противника, свисток арбитра, показ желтой карточки, пенальти по воротам, — здесь проводится ритмическое сближение криминальных сцен городской жизни и острых эпизодов футбольного матча, — серия дифференцирующая и конкретизирующая общий план (городская жизнь) как план содержания плавно переходит в серию конкретизирующую крупный план (футбольный матч) как план выражения. Стадион посредством ритмического уравнивания из знака плавно перетекает в символическое значение. 3-я фраза (тональный монтаж): камера описывает круг стадиона, который постепенно размыкается в панораму города. Если в первой фразе город метонимически выражается через стадион, как его неотъемлемый атрибут, — город это план содержания, стадион — план выражения («стадион — это то, что в городе»), а во второй фразе город и стадион сближаются через средний признак («как на стадионе состязаются, так городская жизнь состоит из конфликтов»), то в третей фразе уже стадион – метафора города. Здесь: город — план означающего выражения, стадион — план означаемого содержания («город — это стадион, где, ты – то победитель, то побежденный»), поскольку конфликтный характер городской жизни вторит духу состязательности спортивной арены, в круге которой все подчинено жажде победы над противником. В ходе этой трансформации город и стадион плавно поменялись местами, поменявшись значениями. На этом примере видно как нарративно — периферийный знак превращается в символическо — центральное значение. Вот как описывает тройственную структуру конструирования кинофразы сам Эйзенштейн: «Первая фаза. Изображение неподвижно. Обобщение ритмически внутри изображения (условно) по изломам обнимающего контура», — в первой фазе идет линейное описание статичного референта киновысказывания общим планом посредством внутрикадрового сопоставления по линии гоизонтали. «Вторая фаза. Изображение подвижно. И макроскопически и микроскопически. Меняются кадрики в кадре. И меняются кадры в последовательности монтажных кусков. Линия обобщения — в линии умозрительной линии сочетания этих кусков», — здесь идет конструирование коннотата динамичной чередой крупных планов посредством межкадровой комбинации по линии вертикали. «Третья фаза. Изображение неподвижно. Обобщение ритмически двигается в мелодии и гармонии пронизывающей его одновременной составляющей» [7], — происходит замыкание коннотата, мелос которого синхроничен, и диахронического референта, собранного в единство полифоничной гармонии, в полный круг киновысказывания. Кинематографический семиозис в отличие от языка не обладает теми средствами, чтобы подчеркнуть существенное, которое в языке обозначается как «главное», «кардинальное», «структурное». Кинематограф может это сделать только визуально, т. е. посредством топической централизации существенного элемента и смещением на периферию элемента второстепенного. Так, в данном случае, сначала стадион появляется на периферии панорамы, являясь ничем непримечательным знаком городской жизни наряду с другими, — стадион как стадион, не более того, но потом, когда он становится символом городской жизни, стадион выдвигается в центр городской панорамы, а вся совокупность элементов городской жизни смещается к периферии. А весь город семантически конденсируется в стадионе. На месте стадиона, может оказаться цирк, церковь, административное здание, любой другой объект, и как только он помещается в центр нарративного горизонта, он становится означающим означаемой периферии. Такой эффект достигается за счет ритмического уравнивания коннотата и денотата, которое подчеркивает значение того монтажа, который, создавая инстанцию опосредствования, проводит приблизительное, смещенное равенство между разнородными образами. Центральная функция в интеллектуальном монтаже принадлежит ритмическому монтажу, поскольку именно он, формируя средний элемент (или термин) как центральный, осуществляет отождествление центральной киносинтактемы и киносинтактемы периферийной посредством их ритмического усреднения, подобно тому, как происходит физическое смешение разнородных веществ ритмичным встряхиванием. Поначалу этот средний элемент выступает в качестве посреднической инстанции между областью значений и областью знаков, однако затем постепенно и уверенно выдвигается в самый центр, замыкая все киноповествование на себя. Кинематограф последовательно реализует идею монтажа как идею ритма. Подобно тому, как язык систематично развертывает структуру высказывания, которое в форме символической связи значения и референта позиционирует реальное отсутствие этой связи, такую позицию негативности, монтажный ритм демонстрирует фигуру присутствия связи на месте реального отсутствия этой связи как смысла. Таков основной принцип всякого синтаксического порядка как символического порядка, в котором корреляция синхронного центра и диахронической периферии носит системный характер. И принцип этот, теоретически описанный в структурной лингвистике Романа Якобсона и практически запечатленный Сергеем Эйзенштейном, устанавливает характер относительной стабильности любой семиотической системы, где всякое диахроническое смещение периферийного знака релевантно уравновешивается синхронным сгущением центрального значения. Это равновесие имеет характер ритмической напряженности. Помимо того кинематографическая проекция семиотической системы позволяет воочию наблюдать то, как метонимическая экстенсификация горизонта взаимодействует с метафорической интенсификацией вертикали по принципу — чем экстенсивней горизонт, тем интенсивней вертикаль, и то, как обе эти структурные тенденции становятся как несущие моменты того центра, которым они одновременно соединены и различены. Таким образом, уточнение центра идет с двух сторон — со стороны вертикально — статически интенсифицирующейся области значений и со стороны горизонтально — динамически экстенсифицирующейся области знаков, при этом результативность центра неотделима от процессуальности периферии. Символическая инстанция, относительно которой происходит уравновешивание области значений и области знаков, представляет собой функцию времени. Именно время в переменности своей абсолютности и в постоянстве своей относительности непрерывно символизируется в центре семиотической системы. Время в форме символа предстает как центр различия монтажного значения и драматургического знака, понятия и предмета, слова и вещи, имени и лица. С монтажом дело обстоит так, что из всей обширной области кинореальности должно образоваться путем сложных операций нечто такое, что разом обратилось бы в означающее, превратив все остальное в означаемое. Монтаж конструирует понятие соответствия означающего и означаемого. Как пишет Клод Леви — Стросс, интуитивное понятие о синхронном соответствии означающего и означаемого дано a priori, а вот сам процесс символического согласования растянут во времени и нуждается в опыте, то есть совершается a posteriori. Таким образом, драматургия и монтаж являются эстетическими проекциями бытия и мышления, чье тождество вознесено до верховного принципа истории европейской культуры, причем кинематограф призван служить экраном, на котором демонстрируется визуальный дубликат парменидовского тождества. Время, будучи границей между бытием и мышлением, на следующем этапе кинематографического восстановления символического тождества выступает в виде формальной связи между горизонтом драматургии и вертикалью монтажа, и здесь оно обретает форму человеческого присутствия в лице героя.
III. Символ. Структура. СубъектСимвол кинематографической идеи в полном виде выглядит так: горизонт драматургической серии развертывается по синтагматическому принципу, организующего сцепление линейных элементов в комбинацию нарративного ряда как линейного ряда чистой драматургии. В то время как вертикаль монтажной серии свертывается по парадигматическому принципу, чье действие заключается в построении ряда символических представлений («значений»), основанного на селекции радиальных элементов. Каждый образ этого ряда, будучи значением, сгущает оптический сегмент своего нарративного референта. Здесь мы видим полную адекватность идей структурной лингвистики и структурной киноэстетики. Так помимо того, что оппозиция монтаж/драма соответствует лингвистической оппозиции центростремительной речи и центробежного языка, поскольку монтаж, как и речь, наполняет объективное, фиксируемое в языке течение драмы как скольжение означающих своим субъективным значением, также монтажно — драматическая корреляция, несет ту бинарную оппозицию, которая выступает в качестве структуры киновысказывания, связывающего определяющее суждение и суждение рефлексивное. По Канту, определяющее суждение прямо направлено к вещной наличности, признавая ее целью и определяя ее как необходимую, а его причину как случайную, то есть определение, будучи центробежно направлено к периферии чувственного горизонта, заключает природу к механизму. А рефлексивное суждение обратно направлено к предполагаемому (на телеологическом основании) центру как цели, выступающей в качестве необходимой причины, чьи следствия как продукты природы лишь случайны. Таким образом, рефлексия как функция центростремления, заключает природу к организму. И если основание определения детерминировано, то основание на основе преднамеренности рефлексии – спонтанно. В контексте структурной киноэстетики Эйзенштейна структура кинофразы предстает как связь «органического целого» (значения) и элемента периферийной серии («цепочки») означающих в замыкании на центральном символе. В процессе драматургической комбинации происходит линейное связывание элементов дейктической реальности, так что «очередной термин (в нашем случае оптический знак) предвосхищается построением предыдущих» (Лакан), то есть комбинация регулирует центробежное распределение элементов по периферии и каждый предвосхищаемый элемент выступает в качестве цели, которая детерминирована рядом предыдущих элементов. Таким образом, нетрудно видеть, что функция горизонтальной комбинации тождественна функции определяющего суждения в смысле Канта, только под продуктом природы здесь надо понимать референт киновысказывания. В процессе монтажной селекции осуществляется радиальное связывание, которое «одновременно определяет.смысл (кино-высказывания — прим. авт.) своим обратным воздействием» (Лакан), превращая периферийный элемент в средство. Обратное воздействие селекции есть радиально-центростремительное возвращение к внутренней цели, которая синхронизирует и тем замыкает фразу, причем синхронизация — это темпоральный модус топической статизации. Заключение фразы представляет собой проекцию горизонта комбинации (сегмента периферии цепочки означающих) на вертикальную ось селекции (значимого центра). Таким образом, монтажная функция вертикальной селекции есть функция рефлективного суждения, для которого продуктом является центральное значение высказывания. Структура киновысказывания, осуществляясь в двух направлениях - вдоль прямой вертикальной оси синхронизации и вдоль кривой горизонтальной линии диахронизации, совершает два совершенно противоречащих действия: монтажная селекция синхронизирует фрагмент линейной наррации, сжимая его в статике значимого «представления», а драматургическая комбинация диахронизирует символ, разжимая его в динамическую цепочку нарративных образов. То есть киновысказывание одновременно соединяет (символически) и различает (содержательно) вертикально — монтажный символ (значение) как субъект высказывания и горизонтально — драматургический сегмент плана наррации (референт) как объективный высказывания. Киновысказывание непрерывно связывает центростремительно сгущающийся символ и центробежно смещающийся план наррации. Генеральным свойством киновысказывания как связи символического значения и нарративного референта является «динамическая синхрония». Вследствие того, что драматургическо — горизонтальная динамика как динамика Предмета необходимо коррелирует с монтажно — вертикальной динамикой как динамикой Понятия при строгом выполнении принципа соответствия понятия предмету, и предмета понятию, киноэстетическая функция сводится к последовательному выдвижению этого принципа соответствия. Задача киносимволизации — наполнить абстрактность рассудочной центральной формы конкретностью содержания драматургической наррации. Итак, что совершает кино с объективной и субъективной реальностью? 1) На первом этапе происходит драматургический демонтаж дейктической реальности, здесь происходит кадровая фрагментация реальности на отдельные планы, это вызывает нарушение «естественных» связей между элементами реальности, таким образом, здесь формируются элементы внешней, линейной наррации, которая определяет «объективную» периферию символического хронотопа; 2) Второй этап характеризуется де-монтажом воображаемой идентификации зрителя как участника трансоптического зрелища, — из элементов этого демонтажа строится внутренняя, радиальная наррация, чья вертикаль выстраивает «субъективный» центр символического хронотопа; 3) Функция заключительного этапа как этапа символического состоит в образовании реального символа, как инстанции синхронизирующего совмещения драматургическо — «чувственной» периферии и монтажно — «рассудочного» центра. Центральный символ завершает кинетику символической периферии и генетику символического центра, заключая их в единство. Замыканием на символе завершается движение этих генезисов как субъективного (внутреннего) и объективного (внешнего). В фильмах и текстах Эйзенштейна непрерывно идет осмысление общего генезиса человеческого духа, претворявшегося в последовательной трансформации центральной области кинохронотопа, — сначала она определяется как место или сцена, затем это место становится местом символического действия как жеста, после этого на сцену вступает субъект этого действия в роли героя. Эти три символические формы — место (горизонт), действие (вертикаль), герой (центр) — как структурные элементы эстетики отсылают к архаичной форме религиозного ритуала как жертвоприношения. Сергей Эйзенштейн, собрав эти три элемента в единую структуру киносимвола, задолго до аналогичных открытий в структурной этнографии и мифологии и исторической поэтике воочию продемонстрировал факт возникновения искусства из архаического ритуала жертвоприношения как сакрального мимезиса акта творения мира. Так сцена — это сакральное место, на котором совершается жертва, алтарь; жест — это действие и маска жреца и приходящих ему на смену поэта и актера; герой — это, в конечном итоге, всякий смертный одаренный Речью, дело которой в призвании Божьего Имени[8]. Состоящая из трех элементов форма религиозного жертвоприношения наследуется искусством. В теории литературы каждый из этих элементов является жанрообразующим. Эпическая сцена соответствует тому месту, в котором развертывается эпическое повествование о движении архаической массы, в которой абсолютно исключен герой в качестве речи, поэтому эпос — это монолог самого языка. Драматургическое действие организует округу драматургического повествования, чье напряжение создается оппозицией центрального героя и периферийного хора так, что здесь имеет место диалог речи героя и языка хора, один из голосов которого в качестве «свидетельского показания» звучит как авторский. В монологе лирического героя авторская речь уже полностью подчиняет язык, становясь его полноправным распорядителем. То есть, эпический монолог, раздваиваясь на драматический диалог, вновь восстанавливается в монологе лирическом. Место наррации образует пространство первичной сцены, действие которой наполняется знаковым жестом, с которого на сцену вступает актер. Эта же форма лежит в основании истории кинематографа. В соответствии с тройственным генезисом эстетического символа история кинематографа представляет собой ее диахроническую экспликацию и распадается на три этапа: 1) нарративное, документальное кино, хроника, 2) «формалистское» кино и 3) символическое кино. Подобно тому, как в филогенетической макроструктуре последовательно сменятся доминирование Природы, Бога и Человека, а в онтогенетической микроструктуре переносится акцент по цепи — «означаемая серия», «означающая серия», «центр их одновременной конвергенции и дивергенции»[9] , в структурной кинотеории Эйзенштейна доминирование последовательно переходит от роли «массы» в историческом эпосе («Стачка», «Октябрь») через идеологический символ как результат спекулятивного монтажа («Броненосец Потемкин», «Генеральная линия» и др.) к центральной роли «личности», чьим полномасштабным фоном выступают народные массы («Александр Невский», «Иван Грозный») [10]. Масса — это основной участник исторической эпопеи, — подобная природной стихии в ее аморфной стихийности и непредсказуемости, соответствует «языческому», «архаическому», «природному», и по определению «материнскому» как тому этапу в истории человечества, чьи социальные установления существенно связаны с «матриархатом». Зримо — явленный горизонт архаического мира, все вещи в котором подчинены оптической логике круга, их траектории цикличны, а сами вещи «круглы» и завершены. Религиозность материнской эпохи истории характеризует телесная жертвенность и «чувственная» симптоматика в Страницы: 1, 2 |
|
© 2010 |
|