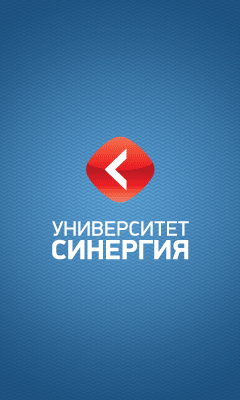|
РУБРИКИ |
Болезнь как семиотическая система |
РЕКОМЕНДУЕМ |
||
|
Болезнь как семиотическая системаБолезнь как семиотическая системаБолезнь как семиотическая системаТхостов А. Ш. Мифологическая природа симптомаПоложение о том, что болезнь как некоторая субъективная реальность и феномен культуры не сводится только к натуральным, организменным событиям, не нуждается в настоящее время в особых доказательствах (см.: Лурия, 1977; Николаева, 1976, 1987; Вассерман и др., 1990). Тем не менее, несмотря на свою очевидность, оно остается декларативным, не находя реализации в конкретных научных исследованиях, и тем более в повседневной клинической практике. Трудность заключается прежде всего в том, что и медицина, и в значительной мере психология строятся на методологических основаниях объективного метода, стремящегося свести всю реальность к чисто физическим (причинно-следственным) соотношениям. При этом в стороне остается совершенно фундаментальный факт особого семиотического характера, приобретаемого любым субъективным ощущением в контексте болезни: оно начинает означать не только само себя, но и то, что в принципе ему внеположено—болезнь. Подобное вторичное значение в медицинской психологии обычно квалифицировалось как интеллектуальный уровень внутренней картины болезни. Его формирование связано с усвоением существующих в культуре взглядов на болезни, их причины, механизмы и с семиологической точки зрения представления о болезнях могут быть интерпретированы как мифологические конструкции, описанные Р. Бартом на знаковых моделях (1989). При такой интерпретации причинно-следственные взаимоотношения, лежащие в основе аксиоматики объективистского подхода, должны быть дополнены семиологическими. В семиотической системе главным принципом является semiosis — отношение между означаемым и означающим, превращающее последнее в знак. Это превращение совершенно преобразует означающее, однако око осуществляется в семиотической сфере, с физико-химической точки зрения с означающим не происходит ничего. Реально (субстанционально) существует лишь один элемент — означающее, однако, участвуя в акте означивания и становясь знаком, оно приобретает новые содержательные функции. Например, камень становится означающим смертный приговор при тайном голосовании. Трудность понимания семиотического соотношения заключается в том, что, став знаком, камень субстанционально остался тем же самым камнем, начет не приобретя и не потеряв в своем чувственном проявлении (ни в твердости, ни в тяжести, ни в форме), но нельзя смешивать камень как означающее и камень как знак:«означающее само по себе лишено содержания, знак же содержателен, он несет смысл» (Барт. 1989. С. 77). Хотя обычно говорят, что означающее выражает означаемое, в действительности в каждой семиотической системе имеются не два, а три элемента: означающее, означаемое и, собственно, знак, представляющий собой результат связи первых двух элементов. Эта формальная схема имеет универсальный характер и ее использование для анализа внутренней картины болезни возможно потому, что значения изучаются в ней независимо от их содержания. В нашем случае она может описывать отношения между отдельным чувственным ощущением (или чувственной тканью) и телесным конструктом. Например, определенным образом локализованное модально-специфическое ощущение означает боль в сердце. Отношение означающего и означаемого в свою очередь может особым образом трансформироваться, порождая вторичную семиотическую систему, названную Р. Бартом мифологической. Специфика этой вторичной системы (мифа) «заключена в том, что он создается на основе некоторой последовательности знаков, которая существует до него; миф является вторичной семиологической системой. Знак... первой системы становится всего лишь означающим во второй системе... Идет ли речь о последовательности букв или о рисунке, для мифа они представляют собой знаковое единство, глобальный знак, конечный результат, или третий элемент первичной семиологической системы. Этот третий элемент становится первым, т. е. частью той системы, которую миф надстраивает над первичной системой. Происходит как бы смещение формальной системы первичных значений на одну отметку шкалы» (там же, с. 78). Таким образом, в мифе сосуществуют параллельно две семиотические системы, одна из которых частично встроена в другую. Во-первых, это языковая система (или иные способы репрезентации), выполняющая роль языка-объекта, и, во-вторых, сам миф, который можно назвать метаязыком и в распоряжение которого поступает язык-объект. Совершенно не имеет значения субстанциональная форма мифа, важен не сам предмет сообщения, а то как о нем сообщается, и, анализируя метаязык, можно в принципе не очень интересоваться точным строением языка-объекта, в этом случае важна лишь его роль в построении мифа. Прилагая эту модель к проблеме внутренней картины болезни, можно модифицировать бартовскую схему «мифологического» следующим образом: знак (означенное телесное ощущение), являющийся ассоциацией чувственной ткани и телесного конструкта, становится означающим в мифологической схеме болезни и, разворачиваясь вовне, превращается в симптом[1] . Рассмотрим в качестве примера простую ситуацию: пациент, приходящий к врачу, говорит, что у него болит живот. Это сообщение не так просто, как кажется на первый взгляд, и по крайней мере двусмысленно. Во-вторых, пациент сообщает о некотором ощущении определенной интенсивности и модальности, более или менее локализованном в его теле. Кроме того, сам факт обращения к врачу предполагает, что это ощущение означает не только само себя (болезненное ощущение в определенной части тела), но также и то, что это есть ненормальное состояние, что оно имеет векую причину и на него необходимо воздействовать. «Больной живот» — это сообщение не только об определенном ощущении пациента в данное время и в данном месте, но это и сообщение о том, что с больным происходит нечто, выходящее за рамки заурядного факта. В разных культурах и эпохах представления о болезнях существенно меняются, но как только мы выходим за рамки первичной семиотической системы, рассматривая конкретное ощущение как означающее нечто более общее, мы моментально попадаем в сферу мифа. При этом объективная верность мифа не имеет существенного значения: термин "миф» не несет в семиологическом подходе никакой оценки, характеризуя лишь способ связи конструктов разного уровня. С этой точки зрения собственно научное объяснение — также вариант мифа ( Malinowski , 1926; Лотман, 1975; Мелетинский, 1976). Самым существенным для нас является то, что вторичное означение не безразлично для первичных ощущений, на которых оно строится и паразитирует. Став симптомом, ощущение только внешне не меняется, — оно подчиняется другим законам и содержит в себе то, что недоступно ему натурально. Будучи означающим в мифе, оно двулико: с одной стороны — это ощущение, заполненное конкретными переживаниями, и, с другой стороны, это полая форма, лишенная своей собственной истории, означающая концепт болезни. В первом своем качестве оно имеет чувственную реальность, обладает самодостаточной ценностью и содержанием. С другой стороны, как означающее в мифологической системе ощущение превращается в полую паразитарную форму. Богатство конкретного содержания отодвигается на второй план, подчиняется логике мифа болезни. Как его элемент ощущение теряет собственную значимость, но не умирает, а по необходимости существует, питая собой миф. Оно остается для мифа чем-то вроде хранилища конкретных событий, которые всегда можно позаимствовать, чтобы миф (концепт болезни) мог «пустить корни» в реальной телесности и, впитав ее, принять облик природы в ее конкретной «неоспоримости». Миф болезни деформирует природную сторону телесного ощущения, не уничтожая ее, а урезая, отчуждая. Означающее в мифе болезни открыто в две стороны: оно есть результат первичного означения чувственной ткани и начало мифа. Это приводит к двойственности и постоянному «мерцанию» ощущения-симптома, демонстрирующего попеременно рассудочное и чувственное, опосредствованное и непосредственное, произвольное и естественное. Столкнуть же мифическое и реальное в конкретном ощущении невозможно, потому что оно и есть единая для них точка, в которой они никогда не оказываются одновременно. В результате этого вопрос об истинности, «подтвержденности» телесной реальностью концептуального мифа болезни крайне запутывается. Телесное ощущение всегда наготове, чтобы стать означающим для мифа; означающее же всегда здесь, чтобы «заслонить» конкретное телесное ощущение. Пытаясь уловить миф, мы находим только результат соединения означающего и означаемого — телесное ощущение, ставшее симптомом, а принимая его за природную данность, мы не замечаем перехода в область мифологического. Хитрость заключается в том, что мифологичность болезни скрыта от простодушного наблюдателя; миф выступает в обличье реальности, но при ближайшем рассмотрении эта реальность оказывается фальшивой, заимствованной. Однако потери в непосредственности частично компенсируются включением телесности через концепт болезни в накопленный общественный опыт. Через концепт вводится «новая событийность», время, эпоха, люди, история, принципы устройства мира и пр. В этом смысле миф — открытая система, постоянно улавливающая все новое, что появляется в общественном сознании. Другое дело, что мифические концепты неустойчивы и не всегда являют собой то, на что внешне похожи. Многие научные медицинские представления в обыденном сознания преломляются в совершенно невероятные фантастические теории, и новомодные «индийские медицины!» имеют больше общего с балетом «Баядерка», чем с медициной или реальней Индией. Включаясь во вторичную семиотическую систему мифа, ощущения могут как изменять свое качество, так и порождаться сверху самим мифом, нуждающимся и чувственном подкреплении и ориентирующим на поиск подходящих сенсаций. Модификация и порождение необходимых для подтверждения мифа ощущений осуществляются прежде всего черед выбор или усвоение соответствующих означаемых первичной семиотической системы, т. е. телесных конструктов. Целые медицинские направления или методы, сохранившиеся до наших дней, такие как, например, аюведическая, антропософическая и тибетская медицины, натуропатия или акупунктура основаны на весьма своеобразных взглядах на устройство организма и выявляют у своих адептов соответствующие этим представлениям симптомы (Антонович, 1877; Эберман, 1925; Robbins , 1959; Капур, 1982; Хигель, 1983; Базарон , 1984; Carry, Feher, 1989). Важно, что, независимо от степени соответствия этих моделей реальности, они всегда подтверждаются субъективными ощущениями. Доказательство этого — культурно-исторический патоморфоз симптомов, доминирование в клинике истерии, неврозов и ипохондрических синдромов жалоб, соответствующих господствующим медицинским теориям. Интересный исторический случай интерпретации опоясывающего лишая как «змеи», когда больные могли «видеть змею и ощупывать руками ее твердую чешую», приведен Э. Б. Тайлором (1989). В качестве более современных примеров можно назвать болезни студентов-медиков 3-го курса или феномен ятрогении. Многие болезни, никак не проявлявшие себя, после установления диагноза начинают обрастать чувственной тканью. Так, при случайном выявлении опухолевых образований у больных появляются соответствующим образом локализованные болезненные ощущения. Легкость возникновения и стабильность таких ощущений связаны с трудностями их проверки в коррекции (телесное ощущение не может быть ни коррегировано прямой практической проверкой, ни соотнесено с общекультурным единым для всех эталоном). Богатейшая феноменология вторичного порождения телесных ощущений в рамках сверхценных идей и первичного ипохондрического бреда описана в психиатрии. Не столь вычурные, но также весьма яркие транзиторные случаи встречаются и у психически здоровых людей. Особую роль вторичное означение играет в ситуации лечения. Двойственность означающего в мифологической системе, одновременно представляющего собой и полую форму, и чувственно наполненное содержание, позволяет ему постоянно транслировать мифологическое в конкретно-телесное. Усвоенная, воспринятая идея болезни (или идея лечения) через развитие и выбор элементов первичной семиологической системы обрастает чувственной тканью. Усвоенный миф способен сам порождать «подкрепляющую» его реальность, находя для уже готового означаемого недостающее означающее. Типичный пример такого рода — это лечение, которое можно рассматривать как разворачивание мифологической схемы в обратном направлении: от вторичной семиологической системы (мифа лечения) — к первичной (языку тела). Поскольку лекарство выступает здесь как знак, независимо от его конкретного содержания, оно может быть заменено плацебо-агентом, ритуалом или любым другим предметом, который сможет сыграть его роль[2] . Лечебный миф не обязательно оформлен в виде развернутой, осознанной, вербализованной и логичной конструкции. Как и миф, болезни — это слабоструктурированная область предположений, ожиданий, предрассудков, открытая для постоянного влияния извне. Учитывая семиотическую природу ситуации врачевания, можно понять многие необъяснимые с позиции объективизма (представляющего лечение, как некий физико-химический процесс) феномены: ритуального лечения, плацебо-эффекта, психотерапии и пр. Ритуальное лечение демонстрирует влияние символического действия, объективно не связанного с причинно-следственными характеристиками заболевания и объединенного с ними лишь в сознании индивида. Тем не менее это действие, лишенное непосредственной целесообразности, и служащее лишь обозначением определенных семиотических отношений, приводит к субъективному, а иногда и объективному улучшению состояния больных. Этот эффект очевиден даже для тех, кто скептически относится к ненаучным медицинским системам, и если бы его не было, то магические приемы не имели бы такого повсеместного распространения. Пытаясь снять это противоречие, научная медицина искала в ритуалах естественно-материалистическую основу. При этом подразумевалось, что лечит, конечно, не сам ритуал (это невозможно), а те конкретные материальные действия (фитотерапия, физические методы), которые с ним связаны. Определенный смысл в таком подходе есть. но, к сожалению, он не решает проблемы до конца. Эффективность «естественного» лечения, вырванного из ритуального контекста, значительно снижается, тогда как одно магическое действие отчетливо улучшает состояние пациента. «Во всех... случаях терапия (насколько известно, часто действенная) трудно поддается объяснению: когда она направлена на больной орган, она слишком груба и конкретна (обычно это чистый обман), чтобы оказать какое-либо действие на внутренние органы, а когда она состоит в повторении ритуальных обрядов, зачастую весьма абстрактных, остается неясным, на чем основано ее лечащее действие. Обычно ... говорят, что речь идет о психологическом лечении. Но этот термин остается лишенным содержания до тех пор, пока мы не определим, каким образом определенные психологические представления могут положительно влиять на строго определенные физические расстройства» (Леви-Строс, 1983, с. 170). Трудно с большей очевидностью показать, что решение этой проблемы возможно только на психологическом уровне. Эффективность ритуального лечения останется загадкой, если считать болезнь, симптом и телесное ощущение лишь натуральными физиологическими процессами, и превратится в решаемую проблему, если их понимать и как сложные семиотические образования. Обратимся к примеру ритуального лечения, приведенному К. Леви-Стросом. Это ритуальное исполнение особого песнопения шаманом в момент трудных родов. В песнопении описывается путешествие неких маленьких существ, являющихся причиной болезни, по телу больной и заканчивается победой над ними шамана. Это чисто психологический способ лечения, так как шаман не прикасается к телу больной и не дает ей никаких лекарств, но в то же время явно и прямо говорит о патологическом состоянии и о том, чем оно вызывается. Смысл этого песнопения заключается в том, что он переводит неопределенные ощущения больной в четко локализованные, понятные и, предоставляя ей язык, превращает аффективно заряженную ситуацию в безопасную, не таящую в себя ничего угрожающего. «Песнь представляет собой как бы психологическую манипуляцию с больным органом и... выздоровление ожидается именно от этой манипуляции» (там же, с. 170). Это конкретный пример влияния мифа на первичную чувственную ткань, модифицируя которую шаман существенно облегчает муки больной. Однако, поняв свои муки, больная не только смиряется, она выздоравливает. Это легко можно объяснить в случаях функциональных заболеваний, когда первичной причиной болезни выступают какие-либо психологические факторы. Но существует не меньшее количество органических заболеваний с первичным поражением материального субстрата. Понять лечение ритуалом в этом случае можно только признав, что болезнь, во всяком случае у человека, — это не просто дефект какого-либо органа, а прежде всего феномен сознания и не может быть презентирована субъекту иначе как в виде внутренней картины болезни. В логике развития болезни следует различать две стороны: объективную, подчиняющуюся натуральным закономерностям, и субъективную, связанную с закономерностями психического и семиотического. Только в абстрактном пределе они совпадают полностью, в реальности же они могут весьма значительно расходиться. Так, даже при объективном прогрессировании болезни, больные, верящие в эффективность проводимого им лечения (часто совершенно неадекватного), могут длительное время чувствовать субъективное улучшение. Пределы такого рассогласования поистине удивительны: фанатичные последователи лечебного голодания, несмотря на очевидную угрозу здоровью и жизни, тем не менее чувствуют непрерывное улучшение, иногда вплоть до летального исхода, а в различных религиозных обрядах весьма болезненные действия совершенно не воспринимаются как таковые. Напротив, если какое-то состояние означается как болезнь, а лечение воспринимается как невозможное или недостаточное, то даже при объективном излечении пациент будет продолжать считать себя больным. «Сглаз», «приворот», связанные в сознании субъекта с болезнью, вызывают соответствующие соматические ощущения. Крайнее выражение такой связи — Вуду-смерть, следующая в результате заклинания, колдовства или нарушения табу (Райковский, 1979; Леви-Строс, 1983). Случаи излечения от Вуду-смерти с помощью методов европейской медицины возможны, лишь если пациент считает магию белого человека самой сильной. Объективная верность мифа, лежащего в основе метода лечения, не имеет принципиального значения. Самые фантастические и нелепые лечебные приемы находят своих убежденных последователей. Именно это и есть неспецифический фактор, обеспечивающий любой терапевтической тактике определенный успех, особенно в плане ближайших результатов. Как и в случае с шаманом, «то, что мифология шамана не соответствует реальной действительности, не имеет значения: больная верит в нее и является членом общества, которое в нее верит. Злые духи и духи-помощники, сверхъестественные чудовища и волшебные животные являются частью стройной системы, на которой основано представление аборигенов о вселенной... То, с чем она не может примириться, это страдания, которые выпадают из системы, кажутся произвольными, чем-то чужеродным. Шаман же с помощью мифа воссоздает стройную систему, найдя этим страданиям в ней соответствующее место» (Леви-Строс, 1983, с. 175). Успех любого психотерапевта в значительной степени определяется не «истинностью» используемого им метода, а совершенно иными качествами: авторитетностью, убедительностью, артистизмом, тонким "чувством пациента», умением заставить поверить в предлагаемый им миф[3] . Слава исцелителя сама по себе является готовым мифом, помогающим придать убедительность предлагаемому лечению, и в известном смысле «великий исцелитель» велик не потому, что его метод помогает лучше других, а скорее, наоборот, метод излечивает именно потому, что исцелитель считается «великим». Большое значение имеет и готовность общественного сознания к восприятию мифов определенного рода — соответствие мифа больного и мифа врача. Рождение психоанализа и упрочение его позиций как научно обоснованного метода лечения, например, привело к формированию в общественном сознании Европы начала века особой «психоаналитической» культуры — появлению «психоаналитического пациента», артикулирующего свои жалобы «психоаналитическим» образом. Психоанализ сродни шаманской практике тем, что «в обоих случаях цель состоит в том, чтобы перевести в область сознательного внутренние конфликты и по' мехи, которые до тех пор были неосознанными либо потому, что они были подавлены иными психическими силами, либо потому (как в случае родов), что происходящие процессы по природе своей носят не психический, а органический или даже механический характер ...это делает возможным особого рода переживание, при котором конфликты реализуются в такой последовательности и в такой плоскости, которые способствуют их беспрепятственному течению и разрешению... Из того факта, что шаман не анализирует психику своего больного, можно сделать вывод, что пояски утраченного времени, которые иногда рассматриваются как основа терапии психоанализа, являются лишь видоизменениями (ценностью которых пренебречь нельзя) основного метода. Определение этого метода должно быть независимо от происхождения мифа, индивидуального или коллективного, поскольку мифическая форма превалирует над содержанием рассказа" (там же, с. 176. 182). Последнее утверждение подтверждается экспериментами по плацебо-психоанализу и равными; успехами бесчисленных психотерапевтических школ; все они структурно являются мифологическими практиками, и выбор предпочтений обусловлен отнюдь не истинностью и научной обоснованностью, а скорее модой. Неусвоенность предлагаемого мифа (например, неразвитость естественнонаучной парадигмы в традиционных обществах) ведет к значительному снижению в них эффективности европейской медицины (Капур, 1982; Чен, 1983; Хигель, 1983)[4] . Понимание этого момента позволяет избежать многих недоразумений, связанных с интерпретацией роли объективных факторов в тех или иных лечебных процедурах. Врач, принимающий мифологизированную реальность за истинную, рискует вести борьбу «не на том поле». Это сравнительно невинное заблуждение становится серьезным, когда ближайший позитивный субъективный эффект лечения скрывает отдаленные результаты, и больные теряют время, необходимое для патогенетического лечения. Опасность такого смешения велика и потому, что, получив подтверждение своего метода улучшением субъективного состояния больного, врач начинает верить в его объективный характер, вводя в заблуждение как себя и больных, так и многочисленные научные учреждения, начинающие проводить сколь дорогостоящие, столь и бессмысленные попытки их «научного» подтверждения[5] . Классический эксперимент с демонстрацией влияния мифа на телесные ощущения — плацебо-эффект. По своей сути это не что иное, как вариант ритуального действия: сохранение всех атрибутов лечения по схеме естественнонаучной медицины (прием пустышки под видом и в форме лекарственного препарата, наличие у пациента болееилименее разработанных представлений о сущности действия лекарств, опыт их применения) при отсутствии самого главного — самого лекарства. С семиологической же точки зрения плацебо-лечение ничем не хуже и не лучше любого другого. То, что плацебо — это пустышка, не имеет никакого принципиального значения; важно, чтобы, как и в случае с ритуалом, человек в него верил и оно вписывалось в принимаемый им миф. Мифология здоровья и болезниМифы о болезни и смерти относятся к числу наиболее распространенных и древних. В центре таких мифов находится основополагающее представление о болезнях как о чем-то внешнем и чужеродном. Объяснение строится от противного. Заболевание противостоит нормальному здоровому состоянию как нечто такое, что не свойственно человеку, привнесено извне и от него не зависит. Первые люди не болели и не умирали до тех пор, пока не были нарушены какие-либо божественные установления или не совершены грехи. В Библии — это Адам и Ева, в мифологии качинов Бирмы — Аннакоит-лок, в индийской мифологии смерть создает Брахма, чтобы избавить мир от перенаселения. Чужеродная болезнь — это неуправляемое явление, обладающее независимой от человека собственной активность». Ее отчуждение связано с фундаментальным качеством переживания болезни, объективирующей для человека его тело, делающей «непрозрачными» и неуправляемыми его функции. В норме тело, полностью подчиненное субъекту, осознается лишь на уровне его границ, болезнь же «проявляет» его в качестве непослушного, инородного, «чужого», самостоятельного объекта, происхождение которого требует объяснения, соответствующего принятой картине мира. В древней и современной народной медицине естественные причины болезней встречаются крайне редко и весьма далеки от этиологических. Традиционные врачеватели в Заире объясняют различные болезни беременных женщин тем, что червь, который завелся в организме, выгрызает плод, а по мнению врачевателей Мали, любая болезнь — нарушение равновесия между теплом и холодом (Коппо, 1983). Хотя это вполне конкретные и реалистические причины, они не более чем воображаемые. Естественными причинами объяснялся только небольшой круг болезней, и рациональными методами лечились, как правило, лишь небольшие травмы и повреждения кожи. Болезни, не имеющие явных визуальных признаков: заболевания внутренних органов или психические расстройства объяснялись иррационально (Янгни-Ангате, 1982; Ваго, 1990). Причины таких болезней: действие злых духов, колдовство, проникновение в организм антропоморфных и зооморфных существ. В качестве персонифицированных воплощений болезни можно назвать Навь и Морену в славянской мифологии, Сабдага — в тибетской, Кутысь — в удмуртской, Гильтине — в литовской и тысячи других божеств или духов. Новое время, значительно видоизменив представления о причинности и персонифицированности болезни, оставило их рудименты и породило новые мифы. В механистическом материализме появились представления о человеческом организме как о сложном механическом устройстве, а болезнь стала пониматься как его засорение или неполадка. Интересно, что сложность и устройство такого механизма прямо заимствовались из наиболее распространенных механических приборов своего времени. В XVIII—XIX веках излюбленными аналогами были манекены, часы, а в наше время — автомобильный мотор, послуживший образцом схем «загрязнения», «накопления шлаков»,, «пережимания», «преграды» и пр. Природные силы, ранее персонифицированные в виде божественных существ, обрели в последнее время новую жизнь в виде «биополя», «кармы», «чакр», «жизненных сил", понимаемых во вполне мифологически-механистическом духе. Крайне популярны до настоящего времени водопроводные и гидравлические объяснения работы организма и нарождающиеся новейшие аналоги с компьютерами, атомными реакторами и прочей новой техникой. Первые примеры такого рода ухе появились в виде метода «кодирования» от алкоголизма, по А. Р. Довженко, «зомбирования» или такого терминологического василиска, как «нейро-лингвистическое программирование». В сердцевине этих идей интенционально лежит представление о том, что человек есть (или может им стать) автомат, подчиняющийся некой программе, которую можно тем или иным образом модифицировать. Совершенно невероятные по своей абсурдности, они тем не менее попали на подготовленную в обыденном сознании почву, породив многочисленных последователей, расширивших идею до «кодирования» от неприятностей и огорчений. Успех же метода породил у его авторов убеждение в его истинности, а в соответствии с традициями объективизма — стремление к обоснованию с позиций нейрофизиологии[6] . Создание в XIX веке Вирховом целлюлярной теории и работы Пастера в области микробиологии открыли обыденному сознанию новый вид зооморфных существ: бактерий, микробов, вирусов. Описанное Л. Н. Толстым в «Плодах просвещения» мифологическое понимание микробиологических теорий сохранилось до наших дней: обычному человеку кажется, что избавление от болезней лежит в тотальной стерилизации организма; понятия «нормальной», «патогенной» и «условно-патогенной» флоры непопулярны и понятны лишь лицам, имеющим медицинское образование. Близко к мифологическим представлениям о болезни находится и их естественное дополнение: представления о здоровье. Отождествление здоровья с конкретным предметом проявилось в распространенных мифах о существовании объекта — носителя здоровья. Эта связь понималась чисто материалистически: трудно представить себе большего материалиста, чем древний человек, полагавший, что съев сердце льва, можно приобрести его храбрость. Главный герой киргизского эпоса «Монас» пьет для этих целей кровь убитого врага. Гильгамеш — герой шумерского эпоса — получает вечную жизнь, питаясь ею, как плодом «растения жизни». Добывание «жизненной силы» служило причиной «охоты за головами» как местом ее пребывания у индейцев Нага (Шинкарев, 1988). Можно назвать также «живую воду» и «молодильные яблоки» — в славянских сказках, «яблоки Индунн» — в младшей Эдде, «яблоки Гесперид» и «амброзию» — в греческой мифологии, «амриту» и «мандрагору» — в индийской, «яблоки Нартского сада» — в Нартском эпосе и «активную воду» — у экстрасенсов. Конкретные носители здоровья материализовывались в виде лекарств, содержащих в себе либо само здоровы, либо некую субстанцию, побеждающую болезнь. Элементы этих верований можно проследить от «панацеи» древних до современных «стимуляторов иммунитета». Непосредственная причина заболевания вытекала из общих представлений о причинности. Если болезнью управляют высшие существа, то они насылают ее, когда необходимо за что-либо покарать человека. Конкретная вина может быть разной: оскорбление богов, нарушение табу, неповиновение, невыполнение каких-либо обязательств или, наконец, просто плохой характер божественных существ, отвечающих за болезнь. Батонеби — группа духов в грузинской мифологии — приносят инфекционные болезни, когда к ним относятся без должного уважения, поэтому в семьях, где есть больные, необходимо приготовить для них угощения и подарки. Ведь-ава — хозяйка воды в мордовской мифологии может наслать болезни, чтобы откупиться от нее, нужно бросить в воду деньги или зерно. Идоменей — внук греческого царя Ми-носа — после похода на Трою попал в бурю и дал обет Посейдону принести в жертву первого же попавшегося человека. Этим человеком оказался его сын. Разгневанные боги наслали моровую язву. Насылание моровой язвы, чумы, холеры, проказы как кары за грехи является сквозной темой многих мифологий. С пониманием причинности как безличного закона, в новое время резко сокращаются теории «кары» — расплаты за вину. Болезни включаются в стихийные события, никем и ничем целенаправленно не управляемые. Их течение не зависит от человека, и все, что ему остается сделать, — это постараться их избежать. Стихией нельзя управлять прямо, но можно принять меры предосторожности. Параллельно остаются осколки веры в возможности прямого божественного воздействия и веры. Таковы моления о болезнях, о ниспослании выздоровления, обращенные к чудотворным образам. Божественная сила может изменить течение событий, прервав причинную связь, и произойдет «чудо». Сам Христос совершал такие чудеса, исцеляя больных и оживив Лазаря. «Чудо»—это редкое событие, по самому своему содержанию выходящее за рамки реальности, управляемой законом причинности, прорыв за границу этого закона. В этом случае ритуал как символическое действие материализует иррациональные отношения, позволяя взаимодействовать материальному и идеальному по законам «иной причинности». Эффективность ритуала определяется не просто соотношением конкретного действия с причиной заболевания, но всей областью мистических представлений. При этом ритуал может даже утратить непосредственно понятную связь со своей целью, и логически понятная целесообразность заменяется верой в возможности сверхъестественного влияния. В обычных же случаях методы лечения последовательно реализуют на практике представления о сущности болезни. Только на современный взгляд они абсурдны и бессмысленны. Если болезнь вызвана разгневанным божеством, то совершенно логично умилостивить его, принеся жертву. В процессе камлания шаман или его духи-помощники ведут поединок с духами болезни, и если они побеждают, то больной выздоравливает. Понятным и обоснованным становится использование Заклинаний, специальных танцев и ритуальных действий. Их цель умилостивить злые силы, либо отпугнуть их от больного, нейтрализовав их враждебные действия. Механистические теории болезни логично обосновывают специфические приемы лечения: «промывание», «очищение», «упрочнение» и пр. На таких воззрениях основано большое число разнообразных «диет», исключающих из питания «вредные», по мнению авторов, элементы, лечебное голодание, «промывание» организма с помощью большого количества минеральной воды или клизм, удаление «шлаков», особые физические упражнения. Диета становится логическим продолжением таких установок и реальной лечебной деятельностью. «Заземление» служит способом избавления организма от «избыточных ионов», а употребление «активной» воды способствует стимуляции организма. Автор уже упоминавшейся «гомокибернетики» в полном соответствии с необходимостью «промассажировать» внутренние органы рекомендует «безостановочно шевелить пальцами ног», «сокращать ягодичные мышцы и анус», «массажировать слуховой проход против атеросклероза» и пр. «различные движения туловищем». Магические, ритуальные приемы, за исключением мистических, имеют вполне натуральное обоснование, хотя мифопоэтическая мысль строится по особым пралогическим законам: спекуляция не ограничена правилами вывода истины; реальность не отличается от видимости; часть объекта может нести функции целого и быть им; имя, знак — это полноценная часть объекта, принадлежащая ему в такой же степени, как и объективные качества. Поэтому классические варианты симпатической магии, описанные Дж. Фрезером (1980), несмотря на свою кажущуюся нелогичность, совершенно не иррациональны. Гомеопатическая или имитативная магия строится по принципу подобия и позволяет производить манипуляции с изображением или именем для достижения лечебного эффекта. «Одним из великих достоинств гомеопатической магии является то, что она делает возможным проведение курса лечения не на больном, а на самом враче; видя, как последний корчится перед ним от боли, больной освобождается от всех признаков болезни» (Фрезер, 1980, с. 27). В народной медицине до сих пор существуют магические приемы лечения кори и краснухи предметами красного цвета, а желтухи — желтого. Остаточные следы гомеопатической магии в ваше время обнаруживаются в принципах гомеопатической медицины, практике экстрасенсов, ставящих диагноз и проводящих лечение по фотографиям больных и планам жилища. Коррекция биополя с помощью «бесконтактного массажа» — яркий пример неожиданного оживления магических приемов. Смысл этой процедуры заключается в том, что экстрасенс проводит массаж или коррекцию ощущаемого им биополя, что должно отразиться на работе реальных органов. Интересно, что массаж и корреляция проводятся теми же движениями, что и реальный массаж, включая в некоторых вариантах, встряхивание» с рук «плохого» биополя. Видимо, предполагается, что биополе может каким-то образом «приклеиться» к рукам и обладает некоторой массой, позволяющей его стряхнуть. Тот же принцип содержится в идее телевизионных сеансов А. М. Кашпировского и А. В. Чумака. Сама эффективность подобных сеансов является наиболее зримым доказательством ее семиотического механизма. Даже если не вдаваться в обсуждение того, обладают ли телевизионные терапевты какими-либо особыми способностями в реальности, наделить ими их телевизионное изображение, являющееся объектом принципиально иного рода, можно только с позиции гомеопатической магии, не различающей предмета и его знака. Другой вариант симпатической магии — контагиозный. Принцип его действия заключается в том, что предметы, находившиеся в соприкосновении, остаются в симпатическом единении, приобретая необходимые лечебные свойства. Можно использовать для лечения ногти или волосы и совершенные с ними процедуры будут переданы их хозяевам. Принцип контагиозной магии лежит в основе лечения методом «наложения рук», «святой воды» и т. п. Он же обосновывает лечебный эффект различных сакральных предметов, носителей «исцеляющей силы», получивших свои свойства через соучастие в каком-либо необыкновенном событии или контакт с высшими силами: исцеляющая от болезней «чаша святого Грааля», из которой пил Христос на Тайной Вечере, копье, которым он был пронзен на кресте, меч Давида, амулеты, обереги, пепел бумаги, с записанным изречением из Корана, и пр. Контагиозная магия субстанциирует влияние чудесных сил, материализует неконкретные идеи, плохо усваиваемые обыденным сознанием. Даже исцелителю нашего времени А. В. Чумаку требуются для передачи «исцеляющих сил» материальные носители в виде воды или газетной бумаги. Исходя из общих соображений о происхождении болезней решается и вопрос о том, кто должен заниматься лечением. Для диагностики и лечения необходим человек, входящий в контакт с духами, понимающий и умеющий толковать их указания, «прочитать» симптом, проникнув в дела богов. Классический пример такого рода диагностики — «гадание». «Нецивилизованный человек... неизменно склонен предполагать, что некие духовные существа парят над гадателем или игроком, перемешивая жребии или переворачивая кости, чтобы заставить их давать ответы» (Тайлор, 1989, с. 131). Такое же цивилизованное «гадание» лежит в обосновании точности и истинности медицинской диагностики тем, что она проводится с помощью компьютера. В этом случае в роли высшего существа, обладающего недоступным знанием и «производящего» диагностику, выступает одушевленный компьютер. Совершенно естественно, что чем ближе лекарь к богам и лучше их понимает, тем проще ему выполнить свой долг. Набор необходимых качеств определяется в первую очередь сущностью болезни. Если она — результат действия злых сил и духов, то, естественно, врач должен быть вхож в их круг и уметь с ними обращаться. Если болезнь излечивается чудесным образом, то лекарь как-то должен быть приобщен к миру чуда. В любом случае необходимо подтверждение права на столь важную в любом обществе деятельность, как медицинская практика. Проще всего это решается отнесением лекаря к кругу тех же божественных сил, которые отвечают за саму болезнь. В греческо-римском пантеоне врачами были сам Аполлон и его сын Асклепий, за здоровье отвечали богини Гигея — дочь Асклепия и Салюс, в китайском — бог Яо-Ван. Один из главных богов древнеиндийской мифологии Варуна был по совместительству и лекарем. Реальные лекари получали свои способности либо от главных медицинских божеств, жрецами которых они были, либо иным способом доказывал свою причастность миру духов (генеалогические претензии, шаманские болезни, «отмеченность» при рождении или в детстве). Можно было продать душу злым силам, получив взамен особые качества, позволяющие насылать болезни или лечить. Так объяснялись умения ведьм в европейской мифологии, самовил — в фольклоре южных славян. Буртининки — колдуны-лекари в литовской мифологии не могли умереть, не передав своего знания другому человеку. Знаками получения таких способностей могли быть необычные события — удар молнии и пр. Иногда такие «указания» специально инсценировались: «явления святых», письма от махатм, якобы получавшиеся в конце XIX века Е. Блаватской, и пр. Принадлежность к «чуду» доказывалась периодическими демонстрациями различных необычайных явлений, основанных зачастую на фокусах или элементарном мошенничестве. Именно это скорее всего обеспечивает поразительную популярность, живучесть и терапевтическую эффективность гипнотических методов, связанную в большей степени не с их содержательной стороной, а с сопровождающим их на протяжении всей истории мистическим ореолом. Универсален и другой мотив, объясняющий особые способности лекарей: мотив эзотерического, тайного знания. Эти знания, обеспечивающие успех лечения, доступны лишь узкому кругу лиц. Можно назвать много вариантов эзотерического знания: семейные, родовые, утерянные и вновь найденные знания, знания других цивилизаций. Принадлежность эзотерическому кругу подтверждалась особым поведением, внешним видом, в наиболее простых случаях — костюмом. В настоящее время такое обоснование стало наиболее распространенным. Поскольку трудно всерьез обосновать свое божественное происхождение, можно утверждать, что лекарь узнал что-то из недоступного другим источника, обладает очень развитыми способностями, «имеющимися в зачаточном состоянии у всех людей», получил их в результате «удара молнии» и пр. На этих основаниях строятся различные «тибетские» и «восточные» медицины, «асирийские корни» бесконтактного массажа Джуны Давиташвили, колдовство «в четвертом поколении» Ю. Тарасова. В сущности, на этом же основано и доверие, которое испытывают психологи к «зарубежным» методам психотерапии. Современный вариант эзотеризма проявляется в жестком запрещении терапевтической практики лицам, не имеющим особого сертификата-диплома. Помимо очевидной финансовой подоплеки этого требования и разумного отчуждения от лечения некомпетентных лиц, в нем содержится и своеобразная сакрализация медицинских процессий, например, в мифе «клинического мышления», наделяющего опытных врачей особыми знаниями и способностями (доступными лишь узкому кругу лиц) проникновения в сущность болезни. Эзотеризм медицинских знаний подчеркивается особой одеждой и использованием латыни — языка посвященных, — долженствующего удостоверить глубину, фундаментальность, тонкость и недоступность знаний врача. Легитимация права врачевания осуществляется и подключением к самому мифу «науки»[7] . Все изложенное позволяет нам понять, почему самые дикие и абсурдные лечебные практики обладают терапевтическим эффектом, а самые невероятные «научные системы» находят своих последователей. Это связано прежде всего с тем, что ощущение болезни, став симптомом, начинает подчиняться не только природным закономерностям, но и логике мифа, в который оно включается. Практический вопрос заключается в следующем: можно ли избавиться от мифологизации болезни и нужно ли это делать? Современная медицина склонна считать мифологические представления вредными заблуждениями человеческого ума, от которых следовало бы как можно скорее избавиться. Однако истинная роль мифа значительно важнее. Он вносит в мир порядок, систему, координирует человеческую деятельность, укрепляет мораль, санкционирует и наделяет смыслом обряды, упорядочивает практическую деятельность ( Durkheim, 1912; Malinowski, 1926; Cassirer, 1946; Леви-Брюль, 1930; Мелетинский, 1976; Лосев, 1982; Леви-Строс, 1983; Франкфорт и др., 1984; Голосовкер, 1987). Медицинский миф и вытекающий из него ритуал дают больному возможность участия в происходящих событиях, орудия влияния на окружающие его силы, способы координации природных и социальных явлений, предоставляют язык, в котором могут формулироваться и опосредствоваться болезненные ощущения, позволяют ими овладевать. Миф нельзя «отменить» прежде всего потому, что представления о болезнях по самой своей структуре и способу формирования принципиально мифологичны, и стремление современной медицины избавиться от мифологизации следует признать по крайней мере утопическим. Миф невозможно преодолеть изнутри, так как стремление избавиться от него само становится его жертвой. Сквозная пронизанность телесности мифологией приводит к давно отмеченному феномену: «Какое-нибудь верование или обычай целые столетия может обнаруживать симптомы упадка, как вдруг мы начинаем замечать, что общественная среда, вместо того чтобы подавлять его, благоприятствует его новому росту. Совсем уже угасавший пережиток опять расцветает с такой силой, которая часто настолько же удивительна, насколько вредна» (Тайлор, 1983, с. 103). Сейчас мы все — свидетели такой ситуации. Ее нельзя упразднить, объявив ожившие мифологические представления ложными, но можно и нужно изучать, вычитывать и расшифровывать скрытые мифы. Это поможет не утрачивать связи с реальностью, имея в виду основополагающую ограниченность мифического сознания, и использовать полученные знания в терапевтической практике, коррегируя вредные и создавая необходимые мифологии. Это требует тщательного изучения принципов мифологизации болезни, так как навязываемые, не вписанные в общую систему медицинские требования плохо приживаются на чужой почве. Лечение, лишенное адекватного мифа, в значительной степени утрачивает свою субъективную эффективность, тогда как самые абсурдные и вздорные рекомендации, включенные в миф, сохраняют свою притягательность, несмотря на объективно приносимый ими вред. Список литературыАнтонович В. Б. Колдовство. Документы. Процессы. Исследования В. Б. Антоновича. СПб.; Тип. В. Киршбаума, 1877. 139 с. Базарон Э. Очерки тибетской медицины. Улан-Удэ, 1984. 164с. Б ар т Р. Избранные работы. М.: Прогресс, 1989. 615 с. Вассерман Л. И., Вукс А. Я., Иовлев Б. В., Карпова Э. Б. О психологической диагностике типов отношения к болезни//Психологическая диагностика отношения к болезни при нервно-психической и соматической патологии/Под ред. М. М. Кабанова. Л.: Медицина, 1990. С. 8—16. Голосовкер Л. Э. Логика мифа. М.: Ин-т востоковедения АН СССР, 1987. 217 с. Капур Р. Л. О привлечении традиционных врачевателей к оказанию психиатрической помощи населению Индии//Всемирный форум здравоохранения. 1982. т. I. № I. С, 198—201. Коппо П. Традиционные методы лечения психических болезней в Мали//3доровье мира. 1983. № 6. С. 10— 12. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М: Атеист, 1930. 337 с. Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1983. 536 с. Лосев А. ф. Знак. Символ. Миф. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. 478 с. Лотман Ю. М. О проблеме значений во вторичных моделирующих системах//Труды по знаковым системам Ученые записки Тартуского государственного университета, т. II. Тарту, 1965. С. 21—59. Лурия А. Р. Внутренняя картина болезни и иатрогенные заболевания. М.: Медицина, 1977. 110с. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Наука, 1976. 408 с. Николаева В. В. Влияние хронической болезни на психику. М.: 1987. 168 с. Николаева В. В. Психологические аспекты рассмотрения внутренней картины болезии//Психо-логические проблемы психогигиены, психопрофилактики и медицинской деонтология. Л.: Медицина, 1976. С. 95—98. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. М.: Прогресс, 1979. 392 с. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989. 574с. Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. М.: Наука, 1984. 236 с. Фрезер Дж. Золотая ветвь. М.: Политиздат, 1980. Чен-Поль Ц. И. Народная и современная медицина в Малайзии//Всемирный форум здравоохранения. 1982. т. 3. № 3. С. 142—143. Эберман В. А. Медицинская школа в Джунджиапуре//Записки коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР. Л., 1925. Т. 2. С. 47—72. Хигель Дж. П. Сотрудничество с народными врачевателями//Всемирный форум здравоохранения. 1983. Т. 3. № 2 - С. —На . Янгни-Ангате А. О традиционной медицине//Всемирный форум здра воохранения. 1982. Т. 2. №3. С. 85—89. Bar о F . Руанда, психиатрическая помощь для всех//3доровье мира. 1990. № 3. С . 26—27. Durkheim E. Les formes elementalres de la vie religiese. Paris, 1912. 646 p. Cassirer E. Language an Mith. N. Y., London. 1946. 103 p. Carry J., Feher M. (ed.) Fragments for the Histori of the Human Body. N. Y., 1989, Vol. I 480 p. Vol.11. 552 p . Vol .111. 578 p . Chiwuzie J ., Ucoli P ., Okojie 0., Isah E ., Eriator I . Работа с традиционными врачевателями//Всемирный форум здравоохранения. 1988. № 2. Т . 8. С . 101—104. Healing, Magic and Religion. L-Angeles, 1985. 688 p. Malinowski B. Mith in Primitive Psychology. London. 1926. 486 p. Malinowski B. Magic, Science and Religion. N. Y. 1955. 277 p. Robbins R. H. The Encyclopaedia of Vitchecraft and Demologia. N. Y. 1959. 571 p. |
|
© 2010 |
|